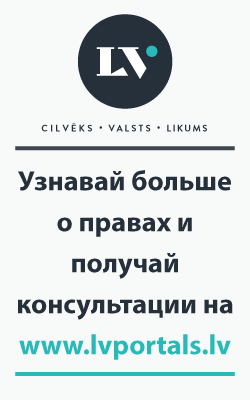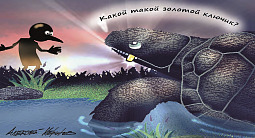Как всегда, летом улицы Латвии заполонили электросамокаты. И как всегда, они вызывают общественное осуждение. Немало людей требуют если не запретить их совсем, то хотя бы жестко ограничить правилами и даже законами. Трудно поверить, но в позапрошлом веке то же самое требовали от велосипедистов. Забавно, но тогда «самокатом» называли велосипед, а велосипедистов – «самокатчиками». Впрочем, для них существовало и другое название – «циклисты», ныне вполне забытое.
ВЕЛОСИПЕД ПОЛЕЗЕН?
Как известно, первые велосипеды были тяжелыми и громоздкими, с огромным колесом спереди.
Но уже к концу 1880-х годов они стали довольно похожими на нынешние и начали во множестве появляться на улицах Риги. Стоили от 100 до 250 рублей.
«От господина старшего полицеймейстера объявлено: «До меня доходят жалобы со стороны публики, что ездящие на велосипедах по бульварам в публичных садах, по аллеям и тротуарам нередко пугают публику и затрудняют проходы. Вполне разделяя жалобы эти, я предлагаю господам квартальным надзирателям подобного рода развлечения допускать в такое время дня, когда малое стечение публики», – писала газета «Рижский вестник» в апреле 1886 года.
Тогда же возник вопрос о пользе или вреде велосипедов для здоровья. Причем не только физического.
Тот же «Рижский вестник» сообщал: некий доктор Марсель Бодуэн пришел к выводам, что для людей, занятых умственным трудом, утомленных нервной или сидячей жизнью, велосипед является лучшим лекарством и рекомендуется больше всевозможных шведских гимнастик и подчас скучных прогулок пешком. Упражнения на свежем воздухе дают бодрость духа, укрепляют нервы, мускулы и грудную клетку. К тому же «циклистике» легко научиться. «После нескольких уроков даже наименее ловкие, если только они не одержимы чрезмерной трусостью, покоряют своей воле стального Пегаса».
Да, выражения типа «стальной конь», в применении к велосипеду, возникли еще в позапрошлом веке.
Кроме того, доктор отвечал на волнующих многих вопрос: полезен ли велосипед для женщин?
Он писал: «Мы находим массу оснований высказаться за пользу этого спорта для женщин, здоровых органически. Они приобретают более легкости, непринужденности и грации, если я смею так выразиться, в движениях на улице, в гостиных и во всех других случаях. Является большая решительность в поступи и твердость взгляда. Жесты делаются определеннее и красивее. Эти упражнения дадут нашей женщине то, чего ей не хватает столь часто: сознание своей личности и силы, уверенность в самой себе».
Что же касается несчастных случаев с велосипедистами, то, по словам доктора Бодуэна, они бывают не чаще, чем со всяким человеком, который ходит по улице, ездит на конке и извозчике и по железной дороге.
Нет сомнения, что можно испугаться собаки, споткнуться на тротуаре, упасть, разбиться, вывихнуть и даже сломать руку или ногу, или то и другое вместе, но все эти ужасы большей частью случаются с неудачниками, обреченными самой судьбой мокнуть под ясным небом, считал доктор, сам, как сообщалось, страстный велосипедист.
ИЛИ ВРЕДЕН?
Но не все так думали. На страницах той же газеты приводили мнения профессора Сикорского. Он приходил к довольно неутешительным выводам для велосипедистов. Он пишет: «Случаи смерти от велосипедной езды многочисленны и повсюду наблюдались. Известен недавний случай подобной смерти одного из участников партии, проехавшей из Москвы в Петербург. Этот злополучный ездок умер, как говорится, на колесе, несколько минут спустя по приезде в Петербург. Обстоятельства смерти не оставляют сомнения в том, что смерть наступила здесь от крайнего утомления сердца».
Но это еще не все.
«Как бы ни был значителен вред велосипедной езды для сердца, еще более значительно его неблагоприятное влияние на нервно-психическое здоровье», – утверждает профессор, но тут примеров не приводит.
ПЕРВЫЕ ПРАВИЛА
Тем не менее велосипедистов на улицах становилось все больше, и в 1893 году рижский полицмейстер представил назад в рижскую городскую управу проект обязательных постановлений о езде на велосипедах.
Эта езда запрещалась по тротуарам, аллеям и дорожкам для пешеходов. «По мостовым Известковой, Сарайной, Господской, Ткацкой и Купеческой улиц», то есть в Старой Риге. На Понтонном мосту велосипед следовало нести на руках.
«Лица, ездящие на велосипедах, при встрече с экипажами, пешеходами и между собою, а также при объездах их, всегда должны держаться правой стороны, проезжая медленно и предупреждая заблаговременно сигнальным звонком». При уличном освещении в передней части велосипеда должен быть зажжен фонарь.
«Быстрая езда на велосипедах и гонка, а также езда без управления велосипедом руками и фигурная езда воспрещаются повсюду».
Кроме того, нельзя было ездить по тем улицам, где шла похоронная процессия или крестный ход или было большое скопление публики.
Правила выглядят довольно современно, но соблюдали их, конечно, не все.
Сообщалось о несчастных случаях. Например, в августе 1895 года «некто Звиргздин, проезжая на велосипеде по Александровской улице (ныне Бривибас. – Прим. авт.), наткнулся на переходившего улицу г. Вайновского, которого сшиб с ног, а сам думал скрыться, но был задержан городовым и представлен в участок. Суд приговорил: взыскать с Звиргздина штраф в сумме 15 рублей с заменой при несостоятельности арестом Звиргздина на трое суток».
ПЕРВЫЕ ЖАЛОБЫ
В рижских газетах публиковались жалобы: «Здешние велосипедисты получили в нашем городе больше прав и преимуществ, чем где бы то ни было – ездят они и по главным улицам, ездят и днем, и ночью, но им все еще мало, они, вероятно, хотят полного произвола; придерживаясь привычки, выработанной майскими ночами, многие из них и до сих пор не зажигают требуемых правилами фонарей и даже звонком не дают знать прохожим о своем приближении». («Рижский вестник», август 1898 года)
Там же описывается случай возле базара на Александровской улице, где из-за скопления народа конные экипажи движутся медленно. «Такого порядка следовало бы, кажется, придерживаться и велосипедистам, – но не тут-то было. Этим господам, по-видимому, все нипочем, и они несутся въ толпу на своих железных конях, сломя голову». В общем, велосипедист сбил маленькую девочку, ударившись о мостовую, она расшиблась до крови.
«Мать, растерявшись, вместо того, чтобы просить публику задержать велосипедиста, стала кричать: «Городовой, городовой!», и пока звала городового, самокатчика и след простыл».
«Некоторые из наших самокатчиков находят удовольствие ездить по таким местам, где это решительно неудобно – как для них самих, так и для публики. Так, например, вчера и третьего дня два-три человека проезжали по проходам базара Берга. Несколько дней тому назад мы видели юных велосипедистов, разъезжавших по дорожкам скверика, что против замка», – жаловались горожане в 1894 году. А читается, как в наши дни про настоящих самокатчиков.
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Впрочем, писали в оправдание велосипедистов.
«Слабонервных барынь может напугать и самый искусный и осторожный велосипедист (да и не велосипедисты только!), а что касается несчастий, могущих произойти, конечно, крайне редко, но при какой угодно искусной езде, так надо иметь в виду, что наибольшей опасности при столкновении подвергается сам велосипедист, рискующий при этом и собственной персоной, и велосипедом. Следовательно, не в его интересе «пугать» публику, «отважно жертвуя затылком».
И как будто изгнанием велосипедистов из черты городских бульваров на загородные шоссе предотвратятся все могущие возникнуть несчастия!
Пугливость крестьянских лошадей при всей осторожности и предупредительности велосипедистов легко может быть причиной действительных несчастных случаев: испугавшаяся лошадь легко может и понести, и в канаву опрокинуть телегу. Но что же делать? Это уж неизбежная неприятность, сопряженная с прелестным самим по себе удовольствием, неприятность, с которою приходится мириться, если вообще допускать велосипедную езду». («Рижский вестник», 1894 год)
ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ
Но первые велосипедисты сталкивались и с другими неприятностями. Во-первых, велосипеды начали похищать.
1897 год: «24 сентября Ян Винзарай прибыл на велосипеде в гостиницу «Парк» на Елизаветинской улице и поднялся в один из номеров, оставив велосипед у входа, на улице. Вскоре Винзарай заметил в окно, что велосипеда нет у дома, и когда выбежал на улицу, то заметил удалявшегося на велосипеде человека, которого настиг и задержал. Виновный оказался крестьянином Карлом Меднисом».
1898 год: «Мещанин Бернгардт Аронсон 28 октября сообщил сыскному отделению о краже у него из квартиры велосипеда стоимостью 135 рублей. Злоумышленники проникли в переднюю комнату квартиры посредством подобранного ключа к входной двери. Приступив немедленно к розыскам, агенты сыскной полиции задержали виновных в краже двух лиц , в то время, когда они намеревались заложить велосипед в ссудной кассе , куда и свезли велосипед на извозчике».
1899 год: «Один из велосипедистов недавно лишился своего стального коня, который был похищен профессиональном вором Г. Совершивший кражу замазал краской номер велосипеда и, поставив на нем другой номер, свободно пользовался им. Несмотря на эту хитрость, Г. задержан и велосипед опознан».
Подобными новостями пестрела полицейская хроника.
Велосипедные номера были введены в Латвии в 1898 году. «Каждый велосипедист обязан иметь два металлических номера, которые получаются из испытательной комиссии и прикрепляются на велосипеде: один спереди, на металлическом стержне с левой стороны, на видном месте, а другой сзади, за сиденьем, также на видном месте», – указывалось в постановлении, подписанном губернатором.
ПРИЗНАК ЗАЖИТОЧНОСТИ
Так вот, вторая неприятность заключалась в том, что рижские власти долго обсуждали, но в 1899 году ввели налог на велосипедистов – 10 рублей. «Содержание велосипеда есть несомненный признак зажиточности. Мы говорим «содержание велосипеда», ибо помимо весьма значительной основной затраты велосипед требует еще и текущих расходов – на чистку, ремонт, замену частей, поврежденных авариями и т. п. Все это свидетельствует о зажиточности гораздо лучше многих других признаков, получивших право полного гражданства в финансовых системах», – писала газета.
В Риге можно было приобрести велосипеды производства европейских стран и даже американские. Но появились и свои.
В 1886 году была основана велосипедная фабрика Лейтнера. Сначала она находилась на Гертрудинской улице и там работали четыре человека. Но при возрастающем спросе на велосипеды была переведена в более обширное помещение на Суворовской улице, там было уже 80 рабочих.
И там стало тесно, и в 1895 году фабрика переехала в здание на нынешней улице Бривибас, которое сохранилось до сих пор. Там работали 200 человек и изготовлялось до двух тысяч велосипедов в год.
В августе 1898 года «Рижская городская полицейская газета» сообщала: «Число велосипедистов в Риге увеличивается, можно сказать, с каждым днем. В настоящее время правом езды на велосипеде по улицам города Риги пользуются 4,004 человека».
КРАСИВО И ВЕЛИЧАВО
Но самое лучшее время для велосипедистов наступило в довоенной Латвийской Республике. Тогдашнюю Латвии вполне можно было назвать великой велосипедной державой. Такой она запомнилась многим.
«...Какая молодежь была в Латвии в 20–30-х годах! – вспоминал поэт Имант Зиедонис. – Тогда в моде были двухколесные велосипеды, у женщин за спиной была прикреплена сетка, чтобы платье не попало в спицы. Как они легко, красиво и величаво ездили на Кишэзерс, на Балтэзерс, где Улманис устраивал большой праздник труда, молодежные праздники, детские праздники!»
В производстве велосипедов Латвия полностью не зависела от других: в стране было четыре крупных велосипедных фабрики – «Эренпрейс», «Латвелло», «Омега» и фабрика Липерта.
Здание фабрики Эренпрейса, торжественно открытое 10 декабря 1939 года в Риге, до сих стоит развалиной возле Воздушного моста на улице Бривибас. Его строительство обошлось в 300 тысяч латов.
Сообщалось, что здание оборудовано всеми возможными удобствами для рабочих. Во время его торжественного открытия были награждены 20 рабочих с многолетним стажем и успешные продавцы велосипедов. Впоследствии в этом здании находился завод «Саркана Звайгзне», тоже какое-то время выпускавший велосипеды.
Именно там трудился герой чрезвычайно популярного в 1960-х годах романа Зигмунда Скуиньша «Внуки Колумба». В романе Эренпрейс назван Эренгельдом:
«Каждую субботу на граждан Латвии, открывавших газету «Яунакас Зиняс», смотрело громадное, во всю страницу, изображение улыбающегося велосипедиста. И улыбался он потому, что приобрел «неповторимый по качеству и умеренный по цене велосипед латвийского производства «Я. Эренгельд-Оригинал». Иногда вместо улыбающегося юноши бывал нарисован обливающийся потом обезьяноподобный выродок. Надпись над ним гласила: «За глупость приходится платить. Умный человек покупает велосипед только фирмы «Эренгельд-Оригинал» и ездит посвистывая!»
В романе утверждается, что в новом здании завода выпускалось за год двадцать пять тысяч велосипедов.
Пять лет назад латвийская пресса писала, что в 2010-м прапраправнук основателя Том восстановил фабрику. Именно на ней были сделаны велосипеды, подаренные французскому президенту Макрону и его жене, прибывшим в Ригу.
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ
В 1925 году сообщалось, что в Латвии каждый год выдается 12 тысяч разрешений на велосипеды. В том же году на них был повышен налог с двух латов до четырех. Этот налог несколько раз отменялся и снова вводился.
Разрешения на велосипеды были введены в 1924 году, теми же правилами указывалось обязательность номерных знаков. Разрешения на велосипеды выдавались префектами, а номерные знаки стоили два лата. В каждом городе они были разного цвета.
28 февраля 1938 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила, что административный департамент МВД утвердил порядок оформления велосипедных номеров. В Риге – желтые, в Видземе – светло-зеленые, в Курземе – голубые, в Земгале – кирпичного цвета и в Латгалии – белые.
А в 1927 году газета МВД писала: «Число велосипедистов стремительно растет. С приходом весны многие молодые люди покупают велосипеды, а состоятельные люди или члены семей даже мотоциклы. Быстрый рост числа велосипедистов очевиден из количества выданных разрешений, а именно: в Елгавском районе в апреле было выдано 897 разрешений на велосипеды; в Цесисском районе – 447 разрешений на велосипеды, 9 разрешений на автомобили и 7 разрешений на мотоциклы, и даже в относительно тихом Екабпилсском районе – 193 разрешения на велосипеды. Количество выданных разрешений на велосипеды в других районах также очень велико».
Согласно правилам о езде на велосипеде от 20 ноября 1928 года, велосипедистам выдавали специальные удостоверения, сроком на пять лет. В них ставились штампы об уплате госпошлины. Проверка навыков вождения проводилась начальниками полицейских участков бесплатно.
Всего, как утверждается, с 1929 по 1938 год в Латвии было произведено 234 тысячи велосипедов.
«Латвийское производство велосипедов расширяется с каждым годом. Уже несколько тысяч рабочих заняты в этой отрасли. Владельцы ремонтных мастерских, торговцы и их работники также зарабатывают себе на жизнь. Велосипед также является сильной опорой для резиновой промышленности, поскольку количество производимых шин достигает многих десятков тысяч. Для целой группы рабочих основой существования является не что иное, как велосипед. Наконец, он также обеспечивает свою поддержку государственной казне и особенно ее валютным резервам. «Я делаю людям только добро», – если бы мог говорить, сказал бы велосипед». Так писал Александр Чак в 1936 году.
■ ■ ■
Несмотря на то, что в Риге по-прежнему много велосипедистов, среди которых даже в разное время были замечены президенты Латвии и другие важные политики и чиновники, седоков двухколесных железных коней явно становится меньше. Исчезли стоянки городских прокатных велосипедов, их заменили самокаты.
Дата наступления самокатной эры известна точно: 4 сентября 2019 года. Именно тогда было возбуждено первое дело о наезде самокатчика на пешехода. Это произошло в Риге на улице Дзирнаву.
Михаил ГУБИН