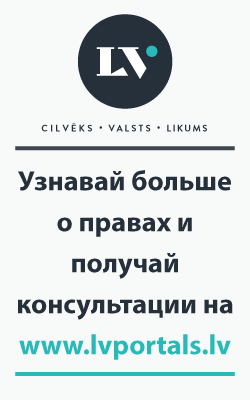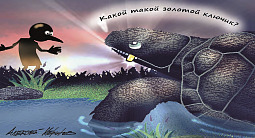Опять появились сообщения, что Латвия занимает первое место в Европе по потреблению алкоголя среди 36 стран. В среднем на одного человека в возрасте от 15 лет и старше в Латвии приходится 12,1 литра чистого алкоголя в год.
Можно объяснить это депрессией, связанной с ухудшением экономического положения и войной в Европе.
Но то же самое сообщали и в 2021-м. Тогда Латвия также вышла на первое место в Европе по употреблению алкоголя, утверждало статистическое бюро Eurostat.
И в предыдущие годы такие новости тоже приходили.
Конечно, можно было бы все это назвать последствием оккупации, но известный нарколог Янис Страздиньш указывал, что «алкоголизм у нас врожденный. Уже много веков латыши были сильно пьющими».
ГДЕ ЦЕРКОВЬ, ТАМ И КАБАК
Тому есть немало исторических свидетельств. Весьма определенно высказывался живший среди латышей немецкий просветитель Гарлиб Меркель. В знаменитом труде «Латыши, особливо в Ливонии, в исходе философского столетия», вышедшем в 1797 году, он писал: «Склонность к пьянству – другая общая черта латышского народа. Матери их c нежным самоотвержением разделяют поднесенный им стакан водки со своим грудным ребенком. Четырнадцатилетние мальчики и девочки пьют водку, не поморщась, а между взрослыми мужчинами и женщинами редкие не напиваются сплошь по воскресеньям, особливо после Св. Причастия. Если нет денег на это, первые тащат пшеницу, последние – свою одежду на продажу. Опытные проповедники и сельские хозяева жалуются, что хотя многие латыши и избегают этого заблуждения до 20-го года жизни, зато впадают в него с удвоенною силою впоследствии».
Из вышедшей в 1911 году книги «Очерки по этнографии и современной культуре латышей» Юрия Новоселова можно узнать, что видную роль в распространении пьянства сыграла корчма, в которой во всякое время можно было получить спиртные напитки, и которая с давних пор заняла видное положение в жизни латыша.
«Когда младенца везли крестить, то заезжали с ним сперва в корчму. В церковной корчме латыш ожидал совершения конфирмации, здесь же он проводил время перед бракосочетанием. В корчме за кружкой пива и рюмкой водки до сих пор подготовляются выборы должностных лиц волости и учителей, обсуждаются с разгоряченными головами важные общественные вопросы».
До 1894 года, до введения винной монополии, в Прибалтийском крае насчитывалось 3589 питейных заведений. На некоторых дорогах они встречались через каждые две версты, среди них были даже церковные. Некоторые лютеранские пасторы, видя, какие доходы извлекают дворяне от винокурения и продажи водки, стали хлопотать о разрешении и им заняться этим. И в 1774 году министром юстиции была разрешена «выделка спирта в пасторатах в таком размере, сколько уродилось хлебов в оных».
Не случайно фольклористами были зафиксированы пословицы – Kur baznīca, tur krogs nav tālu и ledams uz baznīcu, neaizmirsti ieiet krogā, то есть «Где церковь, там кабак рядом» и «По пути в храм не забудь зайти в кабак». Хотя возможно, они выдуманы борцами с пьянством и клерикализмом.
НАЧАЛО БОРЬБЫ
После введения винной монополии потребление водки в Прибалтийском крае не только не уменьшилось, но стало увеличиваться. Согласно статистическому «Ежегоднику России» за 1909 год, пьянство росло здесь быстрее, чем где-либо в империи, кроме того, Рига заняла первое место среди всех городов страны по потреблению пива – восемь с половиной ведер на душу в год.
Депутат Государственной думы Янис Крейцбергс, выступая на Первом всероссийском антиалкогольном съезде в Санкт-Петербурге, 28 декабря 1909 года, указал, что корчмы постоянно были «гнездом всяких темных личностей, подстрекавших народ к самым сумасбродным действиям. В корчме впервые провозглашались и проповедовались пьяным головам богохульные, антигосударственные идеи, теории и учения. В корчме основывались и собирались разные тайные общества». Именно в корчме латышский депутат видел «коренную причину своеобразной революции в Остзейском крае». То есть революционные события 1905-1906 годов депутат связывал с пьянством.
Но с пьянством боролись и священники. «Сам Бог указал нам на трезвость, как меру борьбы против пьянства и средство поднятия нравственного уровня народа», – писал епископ Ульман.
13 января 1832 года вышел первый номер первой латышской еженедельной газеты Tas Latviešu Ļaužu Draugs («Это друг латышских людей»). Его издатель Пастор Трей «поместил в нем горячую и убедительную статью против алкоголя, которая имела большой успех среди широких слоев населения», пишет Новоселов. Он указывает, что в народе появились свои апостолы трезвости, которые переходили с одного места на другое, вели пропаганду и собирали подписи. Обещали не пить иногда целые приходы, включавшие в себя до семи тысяч человек, например, в Мариенбурге (Алуксне).
Оживление деятельности обществ трезвости в латвийском крае наблюдалось в начале XX века. В 1910 году их насчитывалось 24. При них открывались чайные, столовые, читальни. Тут особо стоит вспомнить Августа Домбровского, владельца лесопилки в Вецмилгрависе. Он предоставлял своим рабочим на выгодных условиях земельные участки и материалы для строительства, но с обязательным условием, чтобы рабочие воздерживались от пьянства. В 1904 году им было основано Общество по борьбе с пропагандой алкоголя «Зиемельблазма» («Северное сияние») и построен дом общества. Дом, а точнее, дворец, был сожжен 21 января 1906 года, во время революции, карательной экспедицией, но отстроен вновь.
ЗАКОН СУРОВ
Президент Янис Чаксте услышал голоса трезвенников и 24 декабря 1924 года провозгласил закон о борьбе с пьянством. Законом запрещалась торговля алкоголем с 10 часов вечера до 9 часов утра, а также по воскресеньям и праздничным дням, в дни выборов и голосований, а также в дни призыва на военную службу. По субботам продажа начиналась с 12 часов. Кроме того, запрещалось рекламировать алкогольные напитки вне помещений на афишах, плакатах, в витринах и при помощи особого освещения. В местах продажи алкоголя запрещались танцы и представления варьете. А также нельзя было употреблять алкоголь на всех государственных или муниципальных мероприятиях и в соответствующих рабочих помещениях.
10 сентября 1925 года на заседании Рижской городской думы было решено закрыть 10 ресторанов, нарушавших антиалкогольный закон. После чего в Риге всего осталось 46 ресторанов.
Пивовары, как сообщалось, нашли выход из положения: к праздникам они разослали по почте письма с приглашением запастись напитками. Этот вид рекламы в суровом законе о борьбе с пьянством предусмотрен не был.
САНАТОРИЙ ДЛЯ ПЬЯНИЦ
В ноябре 1927 года в рижских Казармах Екаба был открыт исправительный центр для пьяниц, в народе – žūpu sanatorija.
В первый же день на учет встало около 20 алкоголиков. За год – 6255 человек со всей Латвии. Лечение проводилось амбулаторно, бесплатно. Курс лечения продолжался три-четыре месяца.
«При сортировке по профессиям оказалось, что больше всего проблем у ремесленников, парикмахеров, железнодорожников, официантов, а также представителей «интеллигентных» профессий. Простые рабочие не считают себя алкоголиками и сами не приходят на лечение», – писала Jaunākās Ziņas.
30 июля 1932 года газета сообщала: «Министерство внутренних дел обратилось в Рижский окружной суд с предложением закрыть пять рижских организаций, обвиняющихся главным образом в неразрешенной торговле алкогольными напитками. На основании этого предложения суд уже приостановил деятельность Рижского общества содействия благосостояния населения, Союза антимарксистов и Общества латышских патриотов. Эти общества, имевшие очень благие цели, в действительности были тайными ночными клубами, где можно было получить алкоголь и в компании веселых женщин провести время».
14 июня 1939 года президент Карлис Улманис посетил безалкогольную выставку и с огорчением узнал, что за последние годы потребление спирта населением возросло. После чего пообещал поднять цену на спиртное. Выставку украшал плакат с афоризмом диктатора: «Самые худшие работники – те, которые пьют, но кто их учителя и указатели этого направления?»
И действительно, если в 1933 году Латвия потребляла 2875000 литров водки, до в 1939 году этот показатель вырос до 4550700 литров.
Потребление пива на одного жителя в Риге в 1933-м было 9,89 литра, а в 1939-м – более 17 литров. В 1936 году театры в Риге посетили 704 тысячи человек, а рестораны и трактиры – 4340000. Хотя это вполне могли быть одни и те же люди.
КРАСНОАРМЕЙЦЫ НЕ ПЬЮТ?
В августе 1940 года, до присоединения к СССР, латышская пресса противопоставляла местное пьянство советской трезвости.
«Пьянство, культивируемое во времена господ, пустило глубокие корни.
Привычка употреблять алкогольные напитки по всем праздникам, особенно в дни выплаты зарплаты, укоренилась.
Это предосудительное явление, которое все еще существует в нашей стране, но исчезло в Советском Союзе. Давайте все посмотрим на солдат могучей Красной Армии, которые ясно говорят всем, что солдат Красной Армии не пьет спиртные напитки. Возьмем пример с рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции Советского Союза, которые вместо древнего порока пьянства создали прекрасные культурные традиции труда и общественной жизни. Граждане новой Советской Латвии также должны знать, что употребление алкогольных напитков несовместимо с культурным духом новой эпохи», – писала газета Zemgales Balss.
Газеты клеймили пьяных нарушителей трудовой дисциплины, выпивка на рабочем месте квалифицировалась как преступление. В 1941 году газета Padomju Latvija рассказала о деревообрабатывающем предприятии «Волери». Там мастер Дутце с четырьмя помощниками 19 февраля распивали в цехе и продолжили после конца работы. Сторож хотел их выгнать, они оказали сопротивление. А 21 февраля на празднование дня Красной Армии многие рабочие пришли довольно пьяными и продолжили пить дальше. Особенно пьяными были сторож Берзиньш и бракер Лейманис, который начал скандалить со своей женой и побил ее, писала газета.
ПОД УГРОЗОЙ КАСТРАЦИИ
Летом 1941 года Латвию захватили немцы. При них антиалкогольная пропаганда продолжилась, и упирала на чистоту расы. «Потребители алкогольных напитков систематически одурманиваются, подрывают свои физические силы, губят здоровье, в частности, с помощью вредных и даже ядовитых самодельных алкогольных напитков. Те времена давно уже прошли, когда можно было сказать, что другим до моего здоровья и сил, и мне до других нет никакого дела. Именно национал-социализм наиболее четко указывает на то, что отдельный индивид вовсе не изолирован, а является частью нации с определенной ответственностью перед своим народом и даже расой», – писала в 1943 году газета Тēvija, ссылаясь на речь доктора Геббельса.
Газета напоминала, что в 1933 году в Германии был принят закон, позволяющий принудительно стерилизовать или кастрировать человека с тяжелым алкоголизмом.
Тем не менее в 1944 году та же газета сообщала, что пьянство не уменьшается, пьют и ядовитые суррогаты. Если в 1924–1925 годах в Первом Рижском городском морге было 20 умерших от алкогольного отравления, то в 1941–1943 годах таких было 150.
В 1945 году Латвия была полностью освобождена от германских завоевателей. Но пьянство и борьба с ним продолжались.
В ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ!
8 марта 1952 года заместитель председателя Совета Министров Латвийской ССР М. Плудонс сообщал в Совет Министров СССР: «Органами милиции Риги ежедневно подбираются в среднем от 25–30 граждан в состоянии опьянения, которые доставляются в отделение милиции, где эти лица до вытрезвления содержатся в неприспособленных помещениях, без соответствующего медицинского надзора». Вскоре после этого председатель Совета Министров СССР И. Сталин распорядился открыть в Риге вытрезвитель.
В 1958 году было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении борьбы с пьянством и о наведении порядка в торговле крепкими спиртными напитками».
Латвийская пресса сообщала: «В Сталинском (ныне Северном) районе Риги сейчас проводится переоборудование магазинов, торговавших алкогольными напитками.
В десяти продовольственных магазинах района отделы алкогольных напитков вообще ликвидируются, 11 магазинов больше не будут торговать водкой, ликерами и коньяком.
С 1 января водка будет продаваться лишь в некоторых специализированных магазинах».
ШТРАФ – ДО 20 РУБЛЕЙ
16 августа 1961 года председатель Президиума Верховного Совета Латвийской ССР Янис Калнберзин подписал указ «Об усилении борьбы с пьянством и самогоноварением». Согласно указу, «за появление в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность (...) виновные подвергаются мерам общественного воздействия со стороны общественных организаций и коллективов трудящихся по месту работы, учебы или жительства, или со стороны товарищеских судов, либо штрафу размере до 20 рублей, налагаемому в административном порядке».
Особо памятны Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения» от 16 мая 1985 и начавшая горбачевская антиалкогольная кампания. Благодаря ей в Латвии снова возникли общества трезвости.
Согласно опубликованным данным за период с 1985 по 1990 год, Латвийская ССР входила в число восьми республик, в которых потребление алкогольных напитков превышало их производство.
НОВАЯ ЭРА
В независимость Латвия вернулась с талонами на спиртные напитки. Они были отменены в начале августа 1991 года, а 30 августа постановлением правительства были введены новые розничные цены.
Бутылка водки «Столичная» и «Пшеничная» стоили 21 рубль, «Русская» и «Сибирская» – 21 и 24, рижский черный бальзам – 40 рублей.
Началась новая эра борьбы с пьянством, которая велась административными и экономическими методами. Тем более, что государство переложило расходы на содержание вытрезвителей на самоуправления.
1 июня 1992 года газета «Ригас Балсс» сообщила: «С сегодняшнего дня все рижские медвытрезвители закрыты на замок… Конечно, трудно выделить средства на дотации медвытрезвителям из скудного городского бюджета. Но вспомним, что медицинские вытрезвители были хозрасчетными организациями и могли сами себя содержать. И, наверное, выход можно было найти, допустим, повысив плату за вытрезвление».
Предполагалось, что в каждом отделении полиции будет специальное помещение для вытрезвления. Но на деле такое можно было организовать не везде.
В 2014 году правительство предложило Министерству охраны среды и регионального развития выплачивать самоуправлениям компенсацию в размере 15 евро за каждого человека, помещенного в помещение для вытрезвления. Деньги брали из государственной бюджетной программы «Средства на непредвиденные обстоятельства».
СЛОВО ВАЙРЫ
17 июня 1999 года президентом Латвийской Республики стала Вайра Вике-Фрейберга. В первой же речи она призвала к борьбе с алкоголизмом. «Алкоголизм – одно из самых трудноизлечимых заболеваний, вызывающее значительные физиологические и социальные последствия. На мой взгляд, алкоголизм – одна из самых больших проблем в Латвии, наряду с безработицей и бедностью», – сказала президент.
25 апреля 2002 года Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону об обороте алкоголя, запретив розничную торговлю алкогольными напитками в стране с 22.00 до 8.00, кроме баров, ресторанов и клубов, имеющих разрешение на торговлю ими для употребления на месте.
Ну и как вы знаете, 9 января этого года Сейм установил новые ограничения на торговлю алкоголем. С 1 августа продажа алкогольных напитков в Латвии в будние дни и по субботам будет разрешена с 10.00 до 20.00, а по воскресеньям – с 10.00 до 18.00. Борьба продолжается.
А ЧТО ДРУГИЕ?
Было бы несправедливо утверждать, что в Латвии пьют только латыши. Но сошлемся на иностранных наблюдателей.
В октябре 2009 года эмигрантская газета Čikagas Ziņas в статье «Латыши и алкоголь» писала: «Конечно, в Латвии живут не только латыши. В Латвии проживает большой процент лиц русского происхождения, и среди русского населения широко распространены серьезные проблемы с алкоголизмом.
Однако в исследовании Агентства общественного здравоохранения говорится: «Латвийские студенты пробуют алкоголь гораздо раньше, чем русские. До достижения тринадцатилетнего возраста половина латвийских студентов пробовали пиво, треть – вино и четверть – сидр. Русские молодые люди чаще пробуют различные алкогольные напитки в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет».
«Пьют ли латыши больше, чем другие нации? У нас нет и, скорее всего, не будет конкретного ответа на этот вопрос», – утверждала американская газета.
И действительно, в имеющихся статистических данных речь идет обо всех жителях Латвии. Но сами данные весьма тревожат.
Михаил ГУБИН